На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал
и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои
черты, и это с ними меня мирило.
Пока ты там, покорна своим страстям, летаешь
между Орсе и Прадо, — я, можно сказать, собрал
тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда.
Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья
умеет все принимать как данность. Одна не чает
души в себе, другая — во мне (вместе больше не попадалось).
Одна, как ты, со лба отдувает прядь, другая вечно
ключи теряет, а что я ни разу не мог в одно все это
собрать — так Бог ошибок не повторяет.
И даже твоя душа, до которой ты допустила меня
раза три через все препоны, — осталась тут, вопло-
тившись во все живые цветы и все неисправные телефоны.
А ты боялась, что я тут буду скучать, подачки сам
себе предлагая. А ливни, а цены, а эти шахиды,
а роспечать? Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая.
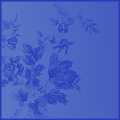
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем.
Вино и страсть терзали жизнь мою.
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою.
Я звал тебя, но – ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная,нашла.
Я крепко сплю, мне снится,плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла.
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
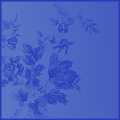
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе.
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,-
За то, что вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не вами!
Привет всем
Funny Fucking Mary
***
Мы бродили с тобой по аллеям,
Слыша шорох упавшей листвы.
Мы с тобою о прошлом жалели,
Только годы бесследно прошли.
И тогда мне подумалось: «Жалко,
Жалко, милый, но ты не со мной»
Только осень мне вторила ярко,
Желто-красной шуршащей листвой.
Ты с другою и что мне поделать?
Не смогу я тебя позабыть.
И пропала вчерашняя смелость…
Больше вместе с тобой мне не быть.
«Tant m’ennue» шептала я тихо…
«Я люблю тебя…Слышишь, родной?»
Не сдержалась, предательски всхлипнув.
«Ты забыла. Теперь он не твой.»
Говорил мне: «Уже отлюбили.
Кончен век. Все забыто давно,
Мы с тобою друг друга забыли.
Просто счастье с другой суждено.»
И глаза, что когда-то сияли,
Потускнели, изжили давно…
Что-то важное вдруг потеряли.
Только мне это знать не дано.
Мы бродили с тобой по аллеям.
Ты шептал мне : «Забыто давно…
Мы с тобою уже не болеем…
Мне, наверно, уже все равно
Убивали любовь. Убивали в четыре руки.
Били с разных сторон, соревнуясь в сноровке и силе.
Им шептала любовь:"Ах, какие же вы дураки."
А они ей, в ответ, за ударом удар наносили.
Убивали любовь. И, однажды, любовь умерла.
Ей бы их обмануть. Притвориться убитой. И только.
Но, любовь – есть любовь.Притворяться она не смогла.
Да и им, поначалу, не жаль ее было нисколько.
Схоронили любовь. На поминках, его кулаки
До боли сжимались,а глаза ее слезы затмили.
Но, тайком, друг от друга, все те же четыре руки,
Поливают цветы у погибшей любви на могиле.
не стоит любить.
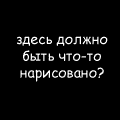
Не стоит любить…
Не стоит любить,
Все былое-тоска.
Не тебе тут судить,
Если сказка кратка.
Не тебе изменить
Чувства счастья поток,
Но не нужно винить,
Размотался клубок.
Люди, хватит любить!
Были чувства больны
Всем нам стоит забыть,
Что любить не вольны.
Просто так не забыть
Наважденья порок.
Все же хватит любить!
Не пришел еще срок.
Мы лишь можем губить,
Приглянувшийся лик.
Но не нужно любить.,
Это краткий лишь миг.
Миг прошел. Как забыть
Грустный свет ее глаз?
Но не стоит любить.
Обожжешься не раз.
И, пытаясь простить,
Успокоишь ее.
И не сердце винить,
Что уже не твое.
И не душу убить,
Что не уберегла.
Просто нам не любить.
Никому – никогда.
Ей-Богу, зло переносимо,
Как ураган или прибой,
Пока не хочет быть красиво —
Не упивается собой,
Взирая, как пылает Троя
Или Отечество; пока
Палач не зрит в себе героя,
А честно видит мясника.
Но пафос, выспренность, невинность,
Позор декора, срам тирад…
Любезный друг, я все бы вынес,
Когда б не этот драмтеатр!
Увы, перетерпевши корчу,
Слегка похлопав палачу,
Я бенефис тебе подпорчу
И умирать не захочу.
Ноябрь злодействует, разбойник.
На крышах блещет перламутр.
Играет радио. Покойник
Пихает внутренности внутрь,
Привычно стонет, слепо шарит
Рукой, ощупывая грудь,
Сперва котлет себе пожарит,
Потом напишет что-нибудь…
В общем, представим домашнюю кошку, выгнанную на мороз.
Кошка надеялась, что понарошку, но оказалось — всерьез.
Повод неважен: растущие дети, увеличенье семьи…
Знаешь, под каждою крышей на свете лишние кошки свои.
Кошка изводится, не понимая, что за чужие места:
Каждая третья соседка — хромая, некоторые — без хвоста…
В этом она разберется позднее. Ну, а пока, в январе,
В первый же день она станет грязнее всех, кто живет во дворе.
Коль новичок не прошел испытанья — не отскребется потом,
Коль не сумеет добыть пропитанья — станет бесплатным шутом,
Коль не усвоил условные знаки — станет изгоем вдвойне,
Так что, когда ее травят собаки, кошки на их стороне.
В первый же день она скажет дворовым, вспрыгнув на мусорный бак,
Заглушена гомерическим ревом местных котов и собак,
Что, ожиданием долгим измаян — где она бродит? Пора!—
К ночи за нею вернется хозяин и заберет со двора.
Мы, мол, не ровня! За вами-то сроду вниз не сойдет человек!
Вам-то помойную вашу свободу мыкать в парадной вовек!
Вам-то навеки — полы, батареи, свалка, гараж, пустыри…
Ты, что оставил меня! Поскорее снова меня забери!
Вот, если вкратце, попытка ответа. Спросишь, платок теребя:
«Как ты живешь без меня, вообще-то?» Так и живу без тебя —
Кошкой, обученной новым порядкам в холоде всех пустырей,
Битой, напуганной, в пыльном парадном жмущейся у батарей.
Вечер. Детей выкликают на ужин матери наперебой.
Видно, теперь я и Богу не нужен, если оставлен тобой,
Так что, когда затихает окраина в смутном своем полусне,
Сам не отвечу, какого хозяина жду, чтоб вернулся ко мне.
Ты ль научил меня тьме бесполезных, редких и странных вещей,
Бросив скитаться в провалах и безднах нынешней жизни моей?
Здесь, где чужие привычки и правила, здесь, где чужая возня,
— О, для чего ты оставил (оставила) в этом позоре меня?!
Ночью все кошки особенно сиры. Выбиты все фонари.
Он, что когда-то изгнал из квартиры праотцев на пустыри,
Где искривились печалью земною наши иссохшие рты,
Все же скорее вернется за мною, нежели, милая, ты.
Мой век учтен, прошит, прострочен, мой ужас сбылся наяву, конец из милости отсрочен — в отсрочке, в паузе живу. Но в первый миг, когда, бывало, отпустят на день или два — как все цвело и оживало и как кружилась голова, когда, благодаря за милость, взмывая к небу по прямой, душа смеялась, и молилась, и ликовала, Боже мой.
Она глядит куда-то
Поверх густой травы,
Поверх моей косматой
Уснувшей головы
— И думает, какая
Из центробежных сил
Размечет нас, ломая
Остатки наших крыл.
Пока я сплю блаженно,
Она глядит туда,
Где адская геенна
И черная вода,
Раскинутые руки,
Объятье на крыльце,
И долгие разлуки,
И вечная — в конце.
Раньше здесь было кафе "Сосиски".
Эта столовка — полуподвал
— Чуть ли первой значится в списке
Мест, где с тобою я пировал.
Помню поныне лик продавщицы,
Грязную стойку… входишь — бери
Черного хлеба, желтой горчицы,
Красных сосисок (в порции — три).
Рядом, у стойки, старец покорный,
Кротко кивавший нам, как родне,
Пил неизменный кофе цикорный
— С привкусом тряпки, с гущей на дне.
Рядом был скверик — тополь, качели,
— Летом пустевший после шести.
Там мы в обнимку долго сидели:
Некуда больше было пойти.
Нынче тут лавка импортной снеди:
Детское пиво, манговый сок…
Чахнет за стойкой первая леди
— Пудреный лобик, бритый висок.
Все изменилось — только остался
Скверик напротив в пестрой тени.
Ни продавщицы больше, ни старца.
Где они нынче? Бог их храни!
Помнишь ли горечь давней надсады?
Пылко влюбленных мир не щадит.
Больше нигде нам не были рады,
Здесь мы имели вечный кредит.
…Как остается нищенски мало
Утлых прибежищ нашей любви
— Чтобы ничто не напоминало,
Ибо иначе хоть не живи!
Помнить не время, думать не стоит,
Память, усохнув, скрутится в жгут…
Дом перестроят, скверик разроют,
Тополь распилят, бревна сожгут.
Если ворвутся, выставив пики,
В город солдаты новой орды,
— Это Создатель прячет улики,
Он заметает наши следы.
Какой-нибудь великий грешник,
Любитель резать, жечь и гнуть,
Карманник, шкурник, кэгебешник,
Секир-башка какой-нибудь,
Который после ночи блудной
Доцедит сто последних грамм
И с головой, от хмеля трудной,
Пройдет сторонкой в Божий храм,
Поверит милости Господней
И отречется от ворья,
— Тебе не то чтобы угодней,
Но интереснее, чем я.
В России выясненье отношений
Бессмысленно.
Поэт Владимир Нарбут
С женой ругался в ночь перед арестом:
То ему не так и то не этак,
И больше нет взаимопониманья,
Она ж ему резонно возражала,
Что он и сам обрюзг и опустился,
Стихов не пишет, брюзжит и ноет
И сделался совершенно невозможен.
Нервозность их отчасти объяснима
Тем, что ночами чаще забирали,
И вот они сидят и, значит, ждут,
Ругаясь в ожидании ареста
И предъявляя перечень претензий
Взаимных. И тут за ним приходят
— Как раз когда она в порыве гнева
Ему говорит, что надо бы расстаться,
Хоть временно. И он в ответ кивает.
Они и расстаются в ту же ночь.
А дальше что? А там, само собою,
Жена ему таскает передачи,
Поскольку только родственник ближайший
Такую привилегию имеет;
Стоит в очередях, носит продукты.
Иметь жену в России должен каждый
— Или там мужа; родители ненадежны,
Больны и стары, а всякий старец
Собою озабочен много более,
Чем даже отпрыском. Ему неясно,
С какой он стати, вырастив балбеса
И жизнь в него вложив, теперь обязан
Стоять в очередях. Не отрицайте,
Такое бывает; вообще родитель
Немощен, его шатает ветром,
Он может прямо в очереди сдохнуть,
Взять и упасть, и не будет передачи.
В тюрьме без передачи очень трудно.
В России этот опыт живет в генах.
Все понимают, что терпеть супруга
Приходится. Любовниц не пускают,
Свиданий не дают, а женам можно.
Ведь в паспорте никто пока не пишет «Любовница»!
А получить свиданье
Способен только тот, кто вписан в паспорт.
Вот что имел в виду Наум Коржавин,
Что в наши, дескать, трудные времена
Человеку нужна жена.
Нужна. Уж верно,
Не для того, чтоб с нею говорить.
Поэтому выясненье отношений
Бессмысленно. Поэтому романы
В России кратки, к тому же всегда негде.
Нашли убогий угол, быстро слиплись,
Быстро разлиплись, подали заявленье,
Сложили чемодан и ждут ареста.
Нормальная любовь.
Потом плодятся,
Дети быстро знакомятся, ищут угол,
Складывают чемодан и ждут ареста.
Паузы между эпохами арестов
Достаточны, чтобы успели дети
Сложить чемодан и слипнуться.
Ведь надо
Кому-нибудь стоять в очередях.
В любви здесь надо объясняться быстро
— Поскольку холодно; слипаться быстро
— Поскольку негде; а разводиться
Вообще нельзя, поскольку передачи
Буквально будет некому носить.
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю тогда. Беспощадность вашу могу понять я. Но допустим, что я отрекся от моего труда и нашел себе другое занятье. Воздержусь от врак, позабуду, что я вам враг, буду низко кланяться всем прохожим. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Сохранить тебе жизнь мы никак не можем.
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю я им. Поднимаю лапки, нет разговору. Но допустим, я буду неслышен, буду незрим, уползу куда-нибудь в щелку, в нору, стану тише воды и ниже травы, как рак. Превращусь в тритона, в пейзаж, в топоним. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Только полная сдача и смерть, ты понял?
Хорошо, говорю. Хорошо же, я им шепчу. Все уже повисло на паутинке. Но допустим, я сдамся, допустим, я сам себя растопчу, но допустим, я вычищу вам ботинки! Ради собственных ваших женщин, детей, стариков, калек: что вам проку во мне, уроде, юроде?
Нет, они говорят. Без отсрочек, враз и навек. Чтоб таких, как ты, вообще не стало в природе.
Ну так что же, я говорю. Ну так что же-с, я в ответ говорю. О как много попыток, как мало проку-с. Это значит, придется мне вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел, но не я виноват, что вы все забыли! Раз-два-три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, Господи Боже мой. Не поверишь, Боже, как надоело.
Пейзаж для песенки Лафоре: усадьба, заросший пруд
И двое влюбленных в самой поре, которые бродят тут.
Звучит лягушечье бре-ке-ке. Вокруг цветет резеда.
Ее рука у него в руке, что означает "да".
Они обдумывают побег. Влюбленность требует жертв.
Но есть еще один человек, ломающий весь сюжет.
Им кажется, что они вдвоем. Они забывают страх.
Но есть еще муж, который с ружьем сидит в ближайших кустах.
На самом деле эта деталь (точнее, сюжетный ход),
Сломав обычную пастораль, объема ей придает.
Какое счастие без угроз, какой собор без химер,
Какой, простите прямой вопрос, без третьего адюльтер?
Какой романс без тревожных нот, без горечи на устах?
Все это им обеспечил Тот, Который Сидит в Кустах.
Он вносит стройность, а не разлад в симфонию бытия,
И мне по сердцу такой расклад. Пускай это буду я.
Теперь мне это даже милей. Воистину тот смешон,
Кто не попробовал всех ролей в драме для трех персон.
Я сам в ответе за свой Эдем. Еже писах — писах.
Я уводил, я был уводим, теперь я сижу в кустах.
Все атрибуты ласкают глаз: их двое, ружье, кусты
И непривычно большой запас нравственной правоты.
К тому же автор, чей взгляд прямой я чувствую все сильней,
Интересуется больше мной, нежели им и ей.
Я отвечаю за все один. Я воплощаю рок.
Можно пойти растопить камин, можно спустить курок.
Их выбор сделан, расчислен путь, известна каждая пядь.
Я все способен перечеркнуть — возможностей ровно пять.
Убить одну; одного; двоих (ты шлюха, он вертопрах);
А то, к восторгу врагов своих, покончить с собой в кустах.
А то и в воздух пальнуть шутя и двинуть своим путем:
Мол, будь здорова, резвись, дитя, в обнимку с другим дитем
На даче жить, читать журналы!
Дожди, распутицей грозя,
Из грядок сделали каналы,
И оттого копать нельзя.
С линялой книжкой на коленях
Сидеть в жасминовых кустах
И давних отзвуки полемик
Следить с улыбкой на устах.
Приемник ловит позывные
Негаснущего "Маяка",
И что за год идет в России
— Нельзя сказать наверняка.
На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило.
Пока ты там, покорна своим страстям, летаешь между Орсе и Прадо,— я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда.
Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая — во мне (вместе больше не попадалось).
Одна, как ты, со лба отдувает прядь, другая вечно ключи теряет, а что я ни разу не мог в одно все это собрать — так Бог ошибок не повторяет.
И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны,— осталась тут, воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны.
А ты боялась, что я тут буду скучать, подачки сам себе предлагая. А ливни, а цены, а эти шахиды, а Роспечать? Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая.
Да, подлый муравей, пойду и попляшу,
И больше ни о чем тебя не попрошу.
На стеклах ледяных играет мерзлый глянец.
Зима сковала пруд, а вот и снег пошел.
Смотри, как я пляшу, последний стрекозел,
Смотри, уродина, на мой прощальный танец.
Ах, были времена! Под каждым мне листком
Был столик, вазочки и чайник со свистком,
И радужный огонь росистого напитка…
Мне только то и впрок в обители мирской,
Что добывается не потом и тоской,
А так, из милости, задаром, от избытка.
Замерзли все цветы, ветра сошли с ума,
Все, у кого был дом, попрятались в дома,
Повсюду муравьи соломинки таскают…
А мы, не годные к работе и борьбе,
Умеем лишь просить «Пусти меня к себе!» —
И гордо подыхать, когда нас не пускают.
Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине
Веселый рой теней,— ты подползешь ко мне,
Худой, мозолистый, угрюмый, большеротый,
И, с завистью следя воздушный мой прыжок,
Попросишь: «Стрекоза, пусти меня в кружок!»
А я скажу: «Дружок! Пойди-ка поработай!»
Крепче целуйтесь, ребята! Хава нагила!
Наша кругом Отчизна. Наша могила.
Дышишь, пока целуешь уста и руки
Саре своей, Эсфири, Юдифи, Руфи.
Вот он, мой символ веры, двигавшей годы,
Тоненький стебель последней моей опоры,
Мой стебелек прозрачный, черноволосый,
Девушка милая, ангел мой горбоносый.
Он обязательно придет,
Какой-нибудь другой,
Самовлюбленный идиот,
Восторженный изгой,
Из всех богоугодных дел
Пригодный лишь к письму,
— И будет дальше, за предел,
Тянуть мою тесьму.
Ему напутствий не даю,
Беды не отведу —
С чего б ему торчать в раю,
Коль я торчал в аду?
Какой ни дай ему совет
О смысле бытия
— Он все равно ответит "нет",
Но сделает, как я.
Не может быть, чтоб ремесло
Осталось без осла,
Который, всем чертям назло,
Рожден для ремесла.
И он придет, и этот крест
Потащит на спине,
Пока ему не надоест,
Как надоело мне.
Блаженство — вот: окно июньским днём,
И листья в нём, и тени листьев в нём,
И на стене горячий, хоть обжечься,
Лежит прямоугольник световой
С бесшумно суетящейся листвой,
И это только первый слой блаженства.
Быть должен интерьер для двух персон,
И две персоны в нём, и полусон:
Все можно, и минуты как бы каплют,
А рядом листья в жёлтой полосе,
Где каждый вроде мечется — а все
Ликуют или хвалят, как-то так вот.
Быть должен двор, и мяч, и шум игры,
И кроткий, долгий час, когда дворы
Ещё шумны, и скверы многолюдны:
Нам слышно все на третьем этаже,
Но апогеи пройдены уже.
Мне кажется, четыре пополудни.
А в это сложно входит третий слой,
Не свой, сосредоточенный и злой,
Вне имени, вне мужества и женства —
Закат, распад, сгущение теней,
И смерть, и все, что может быть за ней,
Но это не последний слой блаженства.
А вслед за ним — невинна и грязна,
Полуразмыта, вне добра и зла,
Тиха, как нарисованное пламя,
Себя даёт последней угадать
В тончайшем равновесье благодать,
Но это уж совсем на заднем плане.
Вынь из меня все это — и что останется?
Скучная жизнь поэта, брюзга
и странница.
Эта строка из Бродского, та из Ибсена –
Что моего тут, собственно?
Где я истинный?
Сетью цитат опутанный ум ученого,
Биомодель компьютера, в Сеть
включенного.
Мерзлый автобус тащится по окраине,
Каждая мелочь плачется о хозяине,
Улиц недвижность идолья, камни,
выдолбы…
Если бы их не видел я — что я видел бы?
Двинемся вспять — и что вы там
раскопаете,
Кроме желанья спать и культурной
памяти?
Снежно-тускла, останется мне
за вычетом
Только тоска — такого бы я не вычитал.
Впрочем, ночные земли — и эта самая –
Залиты льдом не тем ли, что и тоска моя?
Что этот вечер, как не пейзаж души моей,
Силою речи на целый квартал
расширенный?
Всюду ее отраженья, друзья и сверстники,
Всюду ее продолженье другими
средствами.
Звезды, проезд Столетова,
тихий пьяница.
Вычесть меня из этого — что останется?
В первый раз я проснусь еще затемно, в полутьме, как в утробе родной, понимая, что необязательно подниматься – у нас выходной, и сквозь ткань его легкую, зыбкую, как ребенок, что долго хворал, буду слышать с бессильной улыбкой нарастающий птичий хорал, и «Маяк», и блаженную всякую ерунду сквозь туман полусна, помня – надо бы выйти с собакою, но пока еще спит и она.
А потом я проснусь ближе к полудню – воскресение, как запретишь? – и услышу блаженную, полную, совершенную летнюю тишь, только шелест и плеск, а не речь еще, день в расцвете, но час не пришел; колыхание липы лепечущей да на клумбе жужжание пчел, и под музыку эту знакомую в дивном мире, что лишь начался, я наполнюсь такою истомою, что засну на четыре часа.
И проснусь я, когда уже медленный, как письмо полудетской рукой, звонко-медный, медвяный и мертвенный по траве расползается покой, – посмотрю в освеженные стекла я, приподнявшись с подушки едва, и увижу, как мягкая, блеклая утекает по ним синева: все я слышал уступки и спотыки – кто топтался за окнами днем? – дождь прошел и забылся, и все-таки в нем таился проступок, надлом, он сменяется паузой серою, и печаль, как тоска по родству, мне такою отмерится мерою, что заплачу и снова засну.
И просплю я до позднего вечера, будто день мой еще непочат, и пойму, что вставать уже нечего: пахнет горечью, птицы молчат – ночь безлунная, ночь безголовая приближается к дому ползком, лишь на западе гаснет лиловая полоса над коротким леском. Вон и дети домой собираются, и соседка свернула гамак, и что окна уже загораются в почерневших окрестных домах, вон семья на веранде отужинала, вон подростки сидят у костра – день погас, и провел я не хуже его, чем любой, кто поднялся с утра. Вот он гаснет, мерцая встревожено, замирая в слезах, в шепотках – все вместилось в него, что положено, хоть во сне – но и лучше, что так. И трава отблистала и выгорела, и живительный дождь прошумел, и собака сама себя выгуляла, и не хуже, чем я бы сумел.